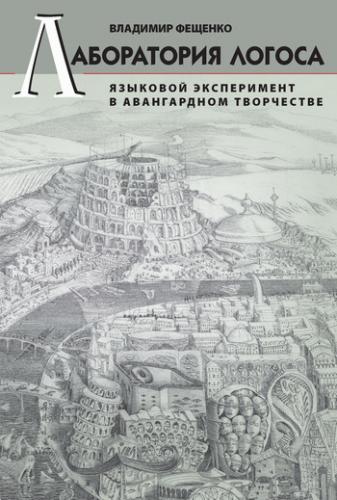Лаборатория логоса. Языковой эксперимент в авангардном творчестве. В. В. Фещенко
творец художественного произведения в большей степени, чем обычный носитель языка, присваивает себе язык в момент речи (ср. с тезисами М. Бахтина: «язык нужен поэзии весь, всесторонне и во всех своих моментах»; «поэзия выжимает все соки из языка, и язык превосходит здесь себя самого»), то следует признать, что художественный язык не исчерпывается характеристикой его как простого «отклонения». По меньшей мере это – «сложное отклонение», а по большому счету – особое языковое образование, соотносящееся с нормой посредством множества признаков.
Рассматривая поэтику (т. е. язык художественных произведений) как знаковую систему, Ю. С. Степанов приходит к выводу: «Словесное художественное произведение может образовывать само по себе индивидуальную знаковую систему. Поэтому проанализировать словесное художественное произведение семиотически (если оно этому поддается) – значит установить повторяющиеся в нем предельные, далее неразложимые без потери смысла словесные образы или фигуры (аналог морфов и изолятов), а затем начинать обобщать их как по линии синтагматики, „в длину“, так и одновременно с этим по линии парадигматики, „в глубину“. Движение по линии синтагматики основано на принципе эквивалентности <…> и заключается в том, чтобы: а) определить отношение произведения к ближайшей к нему литературной среде и к общенациональной норме речи, б)установить его собственную, или внутреннюю, норму, в) установить отклонения в ходе повествования от его собственной, или внутренней, нормы» [Степанов 1998: 72] (разрядка наша. – В. Ф.). Итак, художественное произведение вступает в сложные семиотические отношения с нормами, как внешними, так и внутренними. При этом оно образует индивидуальную знаковую систему, что, в свою очередь, ставит вопрос об индивидуальном языке, или индивидуальной речи.
Вопросом о том, существует ли личный язык («private language»), задавался еще Л. Витгенштейн, сомневаясь, впрочем, в положительном ответе на него. Он писал: «<…> можно также представить людей с монологической речью. Они сопровождали бы свои действия разговорами с самими собой. <…> Но мыслим ли такой язык, на котором человек мог бы для собственного употребления записывать или высказывать свои внутренние переживания – свои чувства, настроения и т. д.? <…> Слова такого языка должны относиться к тому, о чем может знать только говорящий, – к его непосредственным, личным впечатлениям. Так что другой человек не мог бы понять этого языка» [Витгенштейн 1994: 170–171]. Как будто бы солидаризуясь с Витгенштейном, исследователь его творчества В. П. Руднев делает заключение: «Доказательство невозможности индивидуального языка – признак ориентации философии на лингвистику и семиотику» [Руднев 2001: 155]. На первый взгляд, это утверждение неоспоримо (см. выше о «языковом повороте» в науке XX в.). Однако на поверку оно оказывается не столь уж и убедительным. Ведь у Витгенштейна, представителя «философии обыденного языка», речь идет о прагматическом, обыденном употреблении языка. Действительно, в обыденной речи