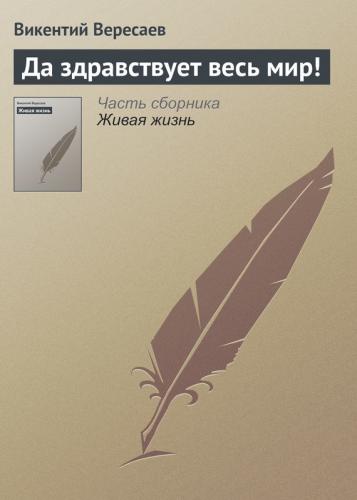Да здравствует весь мир!. Викентий Вересаев
между белым грибом и березовым?
Губы Вареньки дрожали от волнения, когда она ответила:
– В шляпке почти нет разницы, но в корне.
И как только эти слова были сказаны, и он, и она поняли, что дело кончено, что то, что должно было быть сказано, не будет сказано»… Они возвращаются с прогулки с пристыженными лицами, оба испытывают одинаковое чувство, подобное тому, какое испытывает ученик после неудавшегося экзамена… «Левин и Кити чувствовали себя особенно счастливыми и любовными в нынешний вечер. Что они были счастливы своею любовью, это заключало в себе неприятный намек на тех, которые того же хотели и не могли, и им было совестно».
«Хотели того же и не могли»… И вот в результате – самоотвержение, забыть себя и любить других. Это дает «завидное спокойствие и достоинство»… Но какая цена этому самоотвержению? Художник как будто всеми словами готов повторить то, что раз уже сказал устами Оленина: «самоотвержение – это убежище от заслуженного несчастия, спасение от зависти к чужому счастью».
Соня, кузина Наташи Ростовой, тоже полна самоотвержения. Она покорно отказывается от прав своих на Николая Ростова, живет в семье бывшего жениха, ухаживает за его детьми, за старой графиней. «Но все это принималось невольно с слишком слабою благодарностью». Наташа, в разговоре с женою брата, вот как отзывается о Соне:
«Знаешь, что: вот ты много читала евангелия; там есть одно место прямо о Соне: «имущему дастся, а у неимущего отнимется», помнишь? Она – неимущий; за что? Не знаю. В ней нет, может быть, эгоизма, – я не знаю, но у ней отнимется, и все отнялось… она пустоцвет; знаешь, как на клубнике? Иногда мне ее жалко, а иногда я думаю, что она не чувствует этого, как чувствовали бы мы».
Есть еще в «Анне Карениной» благородный деятель «для общего блага». Это Кознышев, старший брат Левина.
«Константин Левин смотрел на брата, как на человека благородного в самом высоком значении этого слова и одаренного способностью деятельности для общего блага. Но в глубине своей души, чем ближе он узнавал своего брата, тем чаще и чаще ему приходило в голову, что эта способность деятельности для общего блага, может быть, и не есть качество, а напротив, недостаток чего-то, не недостаток добрых, честных, благородных желаний и вкусов, но недостаток силы жизни, – того стремления, которое заставляет человека из всех бесчисленных представляющихся путей жизни выбрать один и желать этого одного. Чем больше он узнавал брата, тем более замечал, что и Сергей Иванович, и многие другие деятели для общего блага не сердцем были приведены к этой любви к общему благу, но умом рассудили, что заниматься этим хорошо, и только потому занимались этим».
Мы перебрали, кажется, решительно всех героев Толстого, вкладывающих или пытающихся вложить в жизнь «смысл добра». Результат пересмотра настолько поразителен, что спрашиваешь себя: да как же возможно такое уничтожающе-отрицательное отношение к добру и любви со стороны человека, так упорно проповедующего, что смысл жизни заключается именно