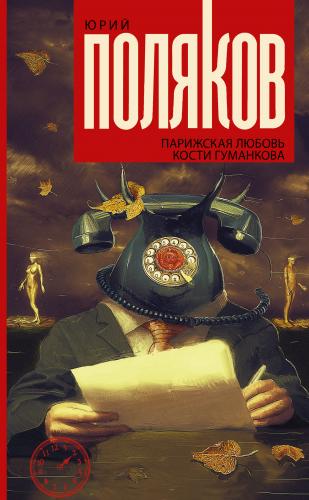Парижская любовь Кости Гуманкова. Юрий Поляков
и жуют, жуют. В моем поколении тоже были такие писатели, но их книги забылись сразу по прочтении, как рекомендации врача-венеролога после выздоровления.
Меня же какой-то непонятной магической силой тянуло рассказать то, что я знал о молодых партийных карьеристах, а перевидал я их к тому времени немало. Сам не знаю, откуда взялась эта тяга. Может, я каким-то седьмым, писательским, чувством предощущал скорый крах советской цивилизации с ее неповторимым номенклатурным миром? Или предвидел, что именно эти молодые мустанги партии и комсомола станут основной движущей силой капитализации страны? Была и другая причина: в повести «ЧП районного масштаба», законченной в 1981 году, я кое-что недоговорил, о чем-то умолчал из опаски, что вещь никогда не напечатают, ведь советская власть в ту пору казалась незыблемой, как Памир, и неисчерпаемой, как Байкал. Заметьте, футурологические произведения фантастов, например Ивана Ефремова или братьев Стругацких, пророков передовой советской интеллигенции, давали картины продвинутого бесклассового общества. О реставрации капитализма никто и не грезил. В этом смысле в наших головах царила полная каша. Так, мы, студенты пединститута, создали тайную литературную организацию и для написания программы сошлись в большой квартире Саши Трапезникова, сына военного прокурора Московского округа. Выпили и стали обсуждать первый раздел: будущее общественное устройство страны. Не больше и не меньше.
– Необходимо разрешить частную собственность! – заявил Саша.
– Капитализм, что ли? – не понял я.
– Нет, капитализм не нужен. Только частная собственность…
Потом долго спорили, как захватить власть, и пришли к выводу, что без помощи уголовного мира не обойтись. Ну не идиоты! Слава богу, на том наши бдения и закончились, а то бы моя первая повесть называлась не «Сто дней до приказа», а как-нибудь иначе – «Места отдаленные», например. Преувеличиваю? Но ведь впаяли же за подобные вещи семь лет прозаику Бородину, и как раз в те самые времена.
Впрочем, для написания «Апофегея» имелся и еще один мотив. О нем скажу подробнее. Иные критики, в советский период обслуживавшие коммунистическую идеологию с подобострастием брадобреев, теперь уверяют нас, будто вся советская литература – это унылый соцреализм, не имеющий ничего общего с жизнью. Вранье. Вранье даже в отношении самых мрачных времен, а уж о позднем, ослабившем идеологическую хватку режиме и говорить нечего. Ну какие соцреалисты Шолохов, Катаев, Ильф и Петров, Пильняк, Платонов, Леонов, Белов, Астафьев, Распутин, Солоухин, Трифонов, Вампилов?.. Никакие. Другое дело, существовало несколько, так сказать, табуированных зон, где отечественная литература вдруг кубарем скатывалась со своих высот и начинала улыбчиво заискивать перед властями предержащими, как официант перед недовольным клиентом. Речь о темах, которые искони считались политически важными. Что-то вроде строго охраняемой рощицы посреди общедоступного лесного массива.