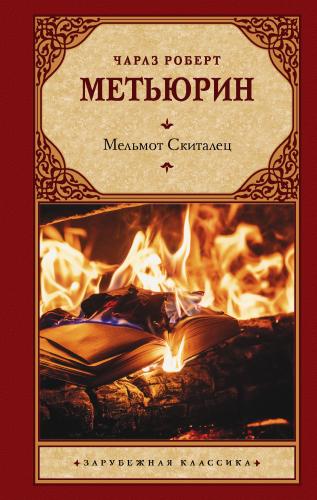Мельмот Скиталец. Чарлз Роберт Метьюрин
крепостей с зубчатыми стенами, башнями, укрепленными сверху донизу; нигде не открывалось ни единой отдушины, через которую могла бы проникнуть радость жизни, все отверстия были предназначены только для стрел; все говорило о военной силе и деспотическом подчинении à l’outrance[6]. Различие это могло бы заинтересовать философа; погрузившись в размышления, он, возможно, пришел бы к мысли, что, хотя древние греки и римляне и были дикарями (а по мнению д-ра Джонсона, все народы, не знающие книгопечатания, – дикари, и он, разумеется, прав), это все же были удивительные для своего времени дикари, ибо они одни оставили следы своего пристрастия к наслаждениям в завоеванных ими странах в виде великолепных театров, храмов (которые тоже в какой-то мере посвящались наслаждениям) и бань, тогда как другие победоносные орды дикарей оставляли после себя всякий раз лишь следы своей неистовой жажды власти. Так думал Стентон, глядя на все еще отчетливо обозначавшийся на фоне неба, хотя и слегка затененный темными тучами, огромный остов римского амфитеатра, его гигантские арки и колоннады, то пропускавшие луч заходящего солнца, то сливавшиеся воедино с окрашенной в пурпур грозовой тучей, а вслед за тем – на тяжеловесную мавританскую крепость с глухими стенами, непроницаемыми для света, – олицетворение силы темной, самовластной, неприступной. Стентон позабыл уже о трусливом проводнике, о своем одиночестве, о том, сколь опасна встреча с надвигающейся бурей в отнюдь не гостеприимных краях, где стоило ему только назвать себя и сказать, откуда он родом, чтобы все двери захлопнулись перед ним, и где каждый удар грома мог легко быть приписан дерзкому вторжению еретика в страну древних христиан, как испанские католики нелепо называют себя для того, чтобы их не смешивали с принявшими крещение маврами.
Все это он позабыл, созерцая открывавшуюся перед ним величественную и страшную картину, где свет боролся с тьмой, а тьма грозила ему другим, более страшным светом и возвещала эту угрозу свинцово-синей густою тучей, которая неслась подобно ангелу-истребителю, чьи стрелы готовы разить неведомо кого. Однако все эти мелкие опасности местного характера, как было бы сказано в героическом романе, сразу вспомнились ему, едва только он увидел, как первая же вспышка молнии, размашистая и алая, точно знамена полчищ захватчиков, девиз которых «Vae victis»[7], осыпает развалины римской стены; расколотые камни покатились вниз по склону и упали к ногам Стентона. Он стоял, охваченный страхом и ожидая, чтобы ему бросила вызов сила, в глазах которой пирамиды, дворцы и черви, создавшие их своим трудом, равно как и другие черви, те, что корпят под их тенью или под их гнетом, одинаково жалки и ничтожны; он преисполнился решимости и на какое-то мгновение ощутил в себе то презрение к опасности, которое опасность сама пробуждает в нас, когда столкновение с ней повергает в восторг, когда нам хочется, чтобы она обернулась врагом из плоти и крови, и мы просим ее «быть беспощаднее», понимая,
Доведенных до предела
Горе побежденным