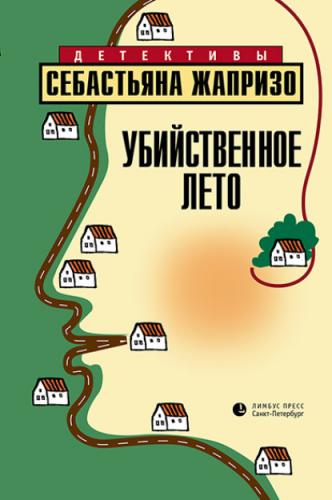Убийственное лето. Себастьян Жапризо
к телу, – Эль была здесь, стояла прямо передо мной, не улыбалась, просто ждала, но почему-то иногда ты уже знаешь наперед, что будет потом.
Мы станцевали один танец, потом второй. Я не помню, что именно – вообще-то я хорошо танцую, мне неважно, что они там играют, но это точно было что-то медленное, потому что я прижимал ее к себе. Ладонь у нее была совсем мокрая, и время от времени она вытирала ее о подол, а ее тело сквозь платье обжигало. Я спросил, над чем они смеялись с подружками. Она откинула назад свои темные волосы, они задели мне щеку, но не стала крутить вокруг да около. Первая же ее фраза сразила меня наповал. Они смеялись с подружками, потому что ей не очень-то хотелось идти танцевать со мной, и она даже случайно что-то сострила насчет пожарных, и вышло ужасно смешно. Вот именно так, слово в слово.
Я знаю, что вы мне скажете, я это уже слышал миллион раз: что глупцов следует опасаться пуще, чем подлецов, что она глупа как пробка и мне тут же нужно было дать деру, что стоит ей открыть рот, и сразу ясно, что она за птица, – но это все неправда. И именно потому, что это неправда, я должен все подробно объяснить. На танцульках девицы всегда ржут как лошади, когда слышат всякую похабщину, которую дома говорить запрещено. Они наверняка знают куда меньше, чем хотят показать, но боятся выглядеть смешными, если не будут гоготать громче остальных. К тому же это я задал ей вопрос. Я спросил, над чем они смеялись, вот она и ответила. Могла бы соврать, но она никогда не врала, если это ее напрямую не касалось, и это слишком утомительно. А если мне неприятен ее ответ, тем хуже для меня, зачем тогда спрашивал?
А потом, когда я с ней танцевал, я заметил одну вещь. Это мелочь, я уже о ней говорил, но она главнее всего остального. У нее была влажная рука. Я ненавижу пожимать потные руки, даже когда здороваюсь на ходу, просто терпеть не могу. А с ней я такого не почувствовал. Я сказал, что она вытирала руку о подол. Если бы это сделала любая другая, мне стало бы противно. А тут нет. Ее мокрая ладошка была, как у сомлевшего младенца, и напоминала что-то, что мне всегда нравилось, даже не знаю, что именно, но что-то, что есть и у младенцев, и у маленьких детей и наводит тебя на мысли о самом себе, об отце и его сгнившем механическом пианино и напоминает среди танца, что ни ты, ни твои братья так и не пошли постоять под окнами банка «Креди мюнисипаль», чтобы дать им послушать «Розы Пикардии». Да, именно так, напоминает что-то, что не связано ни с добром, ни со злом, но может наверняка привести туда, где я сейчас оказался, и хоть раз заставить Вердье искренне заплакать и уже не быть таким ничтожеством. Когда мне говорили о ней, хотели убедить бежать от нее, пока не поздно, я тоже всегда отвечал: «Да пошли вы…»
Еще я заметил, с первых же ее слов, что у нее другой выговор, не местный. Конечно, не такой резкий акцент, как у Евы Браун, но он был слышен даже в этом грохоте. Я спросил, говорит ли она с матерью по-немецки. Она сказала: ни по-французски, ни по-немецки, ей не о чем с ней разговаривать. А с отцом и того меньше. Эль ниже меня, у меня рост метр восемьдесят