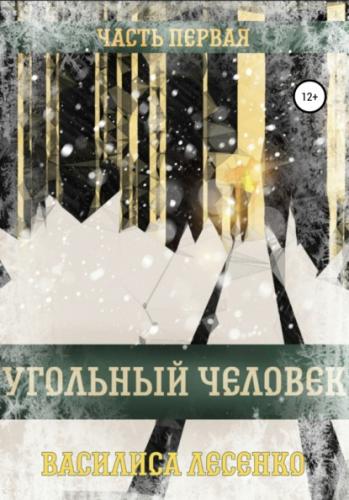Угольный человек. Часть 1. Василиса Лесенко
, желторотого, нехитрой своей науке. Дело и впрямь было немудрённым: барам с кошельком отвозили сажени берёзы да сосны, постной и трескливой, чтобы вволю накормить голодные зевы изразцовых печей. Интеллигентам из «страждущих» – по мешку угля, для сооружения костров в чугунных бочках посередь комнаты. Наживался дед на уральских зимах да на заимке, что «в силу царского указа» урывал у барина: метался тот воючи по своим владениям, не разобравшись толком, что надобно на выкуп отдать, а что – себе оставить.
Левша помнил деда как кудрявую седую бороду, на которую нахлобучили тулуп и овчинную шапку. Борода урчала и рычала, покрываясь инеем. Иногда из неё выглядывал вымороженный нос, похожий на изъеденный червями мухомор, и шмыгал так, что редкие птахи снимались с нагретых ветвей и шумно кляли его.
С дедом дорога была долгой: коли слово и вылетало, так только бранное. Левша тоже себе на уме, но дед и вовсе был молчуном, каких поискать. Только снег скрипел под рассохшимися деревянными полозьями, да лошадь слезливо ржала, раня ногу о толстый наст.
Яблоневая кобылка издохла уже как второй год – верно, дед за собой её потянул. Может и справедливо люди судачили, что бабка их обоих в могилу свела: старик животину больше её, жены, любил. Бабка-то – она и правда сварливая, что змеюка, да с поганым ртом. Поговаривали, мать её по молодости с цыганёнком путалась – вот дети чёрными и народились. Во всей деревне только Левша и не боялся своей бабки, потому как и лицом с нею был схож, и в крови цыганщину чувствовал. Но и ему старуха житья не давала: только и знала, что гнать родну кровь из дому в лес. И всё припугивать бралась: коли не с топором дружити, дак в шахте жити, где мужик чёрен как головешка бродит и дух раньше сроку испускает.
Уж вовек он, Левша, не променяет снег на пыль рудниковую. Глубокий да мягкий он в сём году. Как лёг на Матрёнин день, так больше и не таял. Искрит перина, переливается – глаз радует.
Постоял Левша на Набельцевской околице, пораздумывал как спорее ему будет санки с инструментом вести: ежели по дороге пойдёт, до тракту самого, так и до вечеру до делянки не доберётся; а ежели без неё, напрямки через лес – в сугробе увязнет. Но стой – не стой, а до заимки добраться надобно. Надевал Левша лыжи, да сходил с проторённого пути. «Авось, пройду», – уповал Левша на молодую свою силу, поклажу из ямы тащил и сам тут же проваливался по колено. – «Вон оно как зайчонко бежит! Кабы и мне так!»
Высоко на опушке показывался чёрный шар, делал широкую дугу по скату холма и исчезал меж дерев – прыгливый, что сам чёрт! Левша только и успевал, что глазом моргнуть.
А может и не живой зайчонко то был, а полуденный луч с тенью разыгрался? Уж гляди, как солнце принарядилось на Прокопа! Ведёт ласковой ладошкой по белой глади и даже деревьев сень прогоняет. Благодать, благодать зимняя! Тянул Левша шею, будто б свод небесный хотел макушкой подпереть, да после вспоминал, что человек он землёй взращённый, спину сгибал, да и продолжал санки к лесу тянуть. Вот уж и об корень оступался, что как крючок под водой, так и он под снегом, улова ждал. А ве́рхом – другие охотники: норовили проказливые ели уцепиться за человека и его поклажу. Сыпал Левша проклятиями, ломал раскидистые лапы да дальше шёл, хоть дед и учил, что перед лесом-кормильцем надо голову преклонить и всяку спесь оставить. Может и верно, старый? Утирал Левша нос верхонкой, пропавшей горькой еловой смолой, набирал горсть снега, лицо умывал – от ретивости своей очищался. Хитро́ дерево: прежде чем согреть – заморозит, да семь потов сгонит…
Затрещали вдали сучья, шумно фыркнул зверь. Мелькнуло средь осин в низине тело крупное, шкура бурая – лоси нонче смелые, близко к деревне ходят, но уж показываться как есть не отваживаются. Возвращал Левша на место кочерёгу, что убоявшись с возу хватал, и снова в путь. Уже сучья не ломает, а то, глядишь, весь лес на шум соберется. И верно, легче стало: плыл угрём меж деревьев и возок свой следом, что лодочку, влёк – по холмам, что по волнам.
Там и до озерца добирался. Спало оно под густой белой периной. Поддевал Левша снег раз, другой: открывало озерцо прозрачный ледяной глаз и подмигивало отражением пролетавшего клеста. Толстый лёд; проходил Левша с санями по его глади и на другой стороне оказывался. Отсюдова до хижины – рукой подать, за грядой она стоит. Полезна была мысль о скором приюте: иначе не побороть желанья санки треклятые под горку пустить. Употел тягловой, но на вершину водрузясь с легким сердцем осматривал владения: барские, уже пройденные; рудниковые, пред ним расстилающиеся; и дедовскую делянку с проплешинами вырубок, меж буграми зажатую.
Заслоняла красота зимняя собой рассохшиеся пни да поросшие бодыльём рудниковые отвалы, болотную землю, что крупного зерна родить не могла. Скрадывала она горькую судьбу: нет нынче деда, рудник с пяток лет как забросили, а барин тепереча крестьянского мужика не лучше. Опустели здешние места, что раньше сердцем всего Набельцевского околотка были.
Отчего кручинюсь, дивился себе Левша. Не его молодецкое дело было о мёртвой земле думать. Его – под горку спуститься, да разворотить яму углежогную, что по весне зарождалася полешко за полешком, а по осени его, Левшу, к себе намертво приковывала