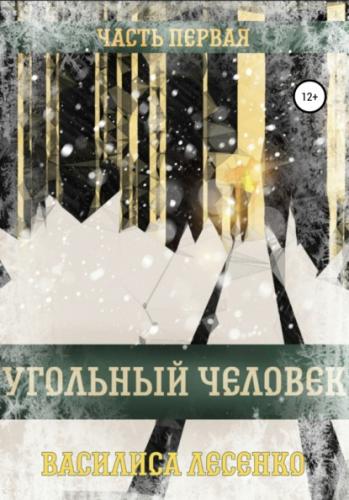Угольный человек. Часть 1. Василиса Лесенко
на благосклонность фортуны, как уповает послушник на Господний промысел, Николушка то и дело говейно закрывал масличные глаза, или кротко хлопал по-девичьи длинными ресницами, или пришептывал елейные мольбы, растянув в улыбке багровые губы. Когда же в такие самозабвенные моменты Николушке являлось прозрение, что удача, возможно, не привязывается как болезнь, а представляет собой волю случая, улыбка сводила его челюсти до того, что речь становилась булькающей и, вздумав рассмеяться, он частенько забрызгивал собеседника слюной. Из истеричной своей боязни проиграть в партии на сватовство смеялся Николушка тем чаще, чем ближе становился дом, и, конфузясь от неприглядной своей повадки, стремился прикрыть её потоком косноязычия.
Барабашев, по отъезде из Перми сделавшийся флегматичным, под бурливую речь курил самокрутки, осыпая бороду пеплом, мял книжные страницы и изредка вставлял куцые пассажи, обыкновенно упразднявшие всё сказанное Николушкой ранее. Посетить родное Николушкино село, Набельцево, он соглашался в манере столь же вялой. Прежний его «интерес к изучению жизнеуклада захолустников» иссякал ещё в Пальниках, где учёный делал вывод об однообразии подорожных деревень и погружался в многогранство книг. А Николушка, несмотря на очевидную скуку товарища, продолжал расписывать и родное село («большое, но не слишком, а такое как надо»), и барское имение («аж две десятины и всё под постройками»), и отца своего, Ефима Матвеича («бывшего барином при том ещё режиме и оставшегося барином нынче»), и мать («происхождением из сосланных, но приличных») и, конечно же, сестер («голу́бок»).
Из всех Николушкиных рассказов вслушивался Барабашев, пожалуй, только в один: о том, как батюшкин сосед и отец общего их знакомого, «прощелыга Крылевский», устраивал близ Набельцево медный рудник, только вот не смог достать и грамма руды и всё своё устроительство скоро обрушивал. «А вот батюшке моему ума-то хватило не ввязываться в затею. Он-то наперёд глядел!» – завершал Николушка довольно, но заговаривать об этом предприятии не любил оттого, что сам толком не понимал, как дело обстояло.
Задав пару вопросов, Пётр Алексеевич от убожества объяснений уставал, сам же прерывал их на полуслове и втягивал голову в плечи – скудность Николушкиного образования его тяготила. Свою презрительность к барчуку учёный и не старался прятать: он-то, как сын фабриканта, смладу в подобной презрительности жил, своё место знал и остальным их место указывал. Аристократических кровей в Петре Алексеевиче не текло, но в петербуржские и московские круги le fils de ce fameux Barabachève1 был вхож и известен благодаря своему (а более, отцовскому) капиталу.
Университетскую пору учёный провёл особняком в Гёттингене, и десяток лет после продолжал держаться подальше от русской светскости: часто бывал в отъезде «по делу» – глядел на промышленность, родную и иностранную, и только раз, поддавшись праздному влечению, посетил модные воды, где не нашел интереса, но к удивлению оставил приятное